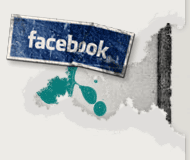Menu
Čechov Anton Pavlovič (*29.01.1860 - †15.07.1904)
Byla to ona (Humoresky)
- povídka
- přeložil Alois Drábek
- název ruského originálu: То была она!
"Vypravujte nám něco, Petře Ivanoviči," prosily dívky.
Plukovník si zakroutil své šedé kníry a počal:
"Bylo to r. 1843., když náš pluk ležel pod Čenstochovem. Třeba podotknouti, milé slečny, že zima toho roku byla krutá, tak že neminul jediný den, aby si stráže nerozmrazovaly nosy, aneb vánice nezasypala cesty sněhem. A jaké byly třeskuté mrazy koncem října, takové se protáhly až do dubna. Musím poznamenati, že jsem toho času nebyl takový starý, zakouřený čibuk, jako nyní, ale můžete si představit, chlapík krev a mléko, slovem muž krasavec. Pyšnil jsem se jako páv, stlal penězi vpravo vlevo a kroutil své vousy jako žádný praporečník na světě. Stávalo se, že mi pouze stačilo okem mrknouti, břinknouti ostruhou a zakroutiti si vous - a nejhrdější kráska se obracela v poslušnou ovečku.
Byl jsem lačen žen, jako pavouk much, a kdybych, milé slečny, počal vám počítati Polky a Židovky, které svého času visely na mé šíji, ujišťuji vás, že by se matematice nedostávalo čísel.
Myslete si k tomu, že jsem byl plukovním adjutantem, výtečně tančil mazurku a měl, dej jí bůh věčnou slávu, za manželku výtečnou ženu. Ani si nemůžete představiti, jaký jsem byl rváč a bujná hlava. Přihodila-li se v újezdu nějaká milostná pletka, jestliže někdo utrhal Židu pejzy aneb zbil šlechtice, vědělo se určitě, že to byl podporučík Vyvjortov.
V povinnosti adjutanta bylo mi často proháněti se po újezdě. Tu jsem jezdil kupovati oves aneb seno, tu prodávati Židům a "pánům" vybrakované koně, ale nejčastěji, mé slečny, jsem pod záminkou služby jezdil k 'panočkám' na dostaveníčka aneb k bohatým kupcům hoditi si kartičky... Večer před vánočními svátky, jak se nyní pamatuji, jel jsem z Čenstochova do vsi Ševelky, kam jsem byl vyslán v služební záležitosti. Počasí bylo, pravím, nesnesitelné... Mráz praštěl, tak že až koně hekali, a já se svým vozkou za nějaké půl hodiny proměnili jsme se v dva ledové rampouchy... S mrazem možno se ještě spřáteliti, ale představte si, v polovině cesty, zdvihla se najednou metelice. Před námi se zakroužil bílý pokrov jako čert před ranní, vítr zasténal, jakoby mu odňali ženu, cesta zmizela... Ne déle deseti minut, mne, vozku i koně zalepil sníh.
'Vaše blahorodí, zbloudili jsme s cesty,' řekl vozka.
'Ach, k čertu! Kam jsi se, hňupe, díval? Nu, jeď přímo, snad narazíme někde na obydlí.'
Jeli jsme, jeli, jezdili kolem dokola a asi tak k půlnoci naše koně zarazili u vrat statku, jak se pamatuji, hraběte Bodjalovského, bohatého Poláka. Poláci a Židé jsou mně jedno a totéž, jako křen po obědě, ale třeba mluviti pravdu, že šlechta jest lid pohostinný, a není ohnivější ženy než 'panočka'...
Vpustili nás... Sám hrabě Bodjalovský žil tou dobou v Paříži, a nás přijal jeho správce, Polák Kazimír Chapcinský. Pamatuji se, že neminulo ani půl hodiny, když jsem již seděl v jeho bytu, koketoval s jeho ženou, pil a hrál v karty. Vyhráv pět dukátů a napiv se, prosil jsem, lehnouti si. Následkem nedostatku místa v bytu dali mně komnatu v hraběcím zámku.
'Nebojíte se duchů?' tázal se správce, uváděje mne do nevelké komnaty, přiléhající k velikému sálu, plnému chladu a tmy.
'A což tu jsou strašidla?' tázal jsem se, naslouchaje, jak temné echo opakuje moje slova a kroky.
'Nevím,' zasmál se Polák, 'ale zdá se mi, že je to nejpříhodnější místo pro ně.'
Dobře jsem se najedl a byl napilý, jako čtyřicet tisíc ševců, ale přiznám se, že mě jeho slova polila jako studenou vodou. U čerta, lepší setnina Čerkesů, než jeden duch! Nebylo však co počíti, a proto jsem se odstrojil a ulehl... Moje svíce sotva osvětlovala stěny, na nichž visely portréty předků, jeden strašnější druhého, staré zbraně, lovčí rohy a ostatní fantasmagorie... Bylo ticho jako v hrobě, jen v sousedním sále šuškaly myši a praskal rozeschlý nábytek. Ale za oknem dálo se cosi ďábelského... Vítr komusi odzpěvoval, stromy se s nářkem ohýbaly, okenice skřípala a tloukla do okenního rámu. Myslete si ještě k tomu, že se mně točila hlava a s hlavou celý svět... Když jsem zavřel oči, zdálo se mi, že mne postel nosí po celém domě a že hraji s duchy čechardu. Abych přemohl strach, zhasil jsem nejdříve svíčku, protože pustá komnata při jejím svitu zdála se strašnější než po tmě."
Tři dívky, poslouchající plukovníka, přitiskly se k němu blíže a zakotvily na něm upjatě své oči.
"Nu," pokračoval plukovník, "jakkoli jsem se snažil usnouti, sen ode mne prchal. Tu se mi zdálo, že zloději lezou do okna, tu jsem slyšel něčí šepot, tu se kdosi dotýkal mého ramene - vůbec se mi snila čertovina, jaká jest každému známa, kdo se někdy nacházel v nervosním napětí.
Však uprostřed čertoviny a chaosu hlasů rozeznávám zvuk podobný šlapání trepek - a co byste myslili? Slyším, kterak někdo přichází k mým dveřím, kašle a otvírá je...
'Kdo to?' táži se, zvedaje se.
'To jsem já... neboj se!' odpovídá ženský hlas.
Zaměřil jsem ke dveřím... Prošlo několik vteřin, a já pocítil, jak dvě ženské ručky, měkké jako kavčí prach, ulehly mi na ramena.
'Miluji tě... Jsi mi dražší než život,' řekl melodický ženský hlas.
Horký dech se dotkl mé tváře, a já, zapomenuv na metelici, duchy, na vše na světě, objal jsem ji v pasu - a jaký to byl pás. Takový může vytvořiti příroda pouze na zvláštní zakázku a jednou za deset let. Tenký, jako vysoustruhovaný, horoucí, efemerní jako dětský dech... Neodolal jsem, silně jsem ji stiskl do náručí... Ústa naše slila se v pevný, dlouhý polibek a... zaklínám se všemi ženami na světě, že naň nezapomenu do smrti."
Plukovník umlkl, vypil půl sklenice vody a sníživ hlas, pokračoval:
"Když jsem druhého dne vyhlédl z okna, spatřil jsem, že jest ještě větší vánice, a že nijak není možno jeti. Byl jsem nucen celý den seděti u správce, hráti s ním karty a píti. Večer jsem byl opět v pustém domě a právě v půlnoci jsem objímal známý pás. Ano, slečny, kdyby nebylo lásky, byl bych tam zhynul nudou aneb se upil."
Plukovník vzdechl, vstal a mlčky počal choditi po salonu.
"Nu... a co bylo dále?" tázala se jedna ze slečen, hynouc očekáváním.
"Nic. Následujícího dne jsem byl již na cestě."
"Avšak... kdo byla ta žena?" tázaly se nerozhodně slečny.
"Pochopitelno kdo!"
"Nic není pochopitelno."
"Byla to moje žena!"
Všecky tři slečny vyskočily jako uštknuty.
"To jest... jak to?" tázaly se.
"Ach, bože, což tu nepochopitelno?" tázal se plukovník mrzutě a pokrčil rameny.
"Myslím, že jsem se dosti jasně vyjadřoval. Jel jsem do Ševelek se ženou... Nocovala v pustém domě v sousední komnatě... zcela jasné!"
"Mmm," zahovořily slečny, spouštějíce zklamány ruce. "Začal jste krásně a skončil bůh ví jak... žena... Odpusťte, ale to není ani interesantní a... ani dosti málo vtipné."
"Zvláštní! Vy byste tedy chtěly, aby to nebyla moje řádná žena, ale nějaká cizí. Ach, slečny, slečny! Když nyní takto soudíte, což budete mluviti až se vdáte?"
Slečny rozpačitě umlkly. Rozmrzely se a úplně zklamány počaly zívati.
Při večeři pak ničeho nejedly, koulely z chleba kuličky a mlčely.
"Ne, jest to docela i - nesvědomité!" nevydržela jedna z nich. "K čemu vyprávěti, když to mělo takový konec? Pěkného v té povídce nebylo nic..."
"Počátek byl tak vábný a - najednou jste jej přerval..." dodala druhá. "Učinil jste si z nás posměch a nic více."
"Nu, nu, nu... žertoval jsem," řekl plukovník. "Nehněvejte se, slečny, žertoval jsem jen. Nebyla to moje žena, ale správcova..."
"Ano?"
Slečny se najednou rozveselily, a oči jim zajiskřily. Přisedly k plukovníkovi, a nalévajíce mu vína, zasypaly ho otázkami. Nuda zmizela, zmizela brzy i večeře, neboť slečny počaly s velkou chutí jísti.
Byla to ona v ruském originálu (То была она!)
- Расскажите нам что-нибудь, Петр Иванович! - сказали девицы.
Полковник покрутил свой седой ус, крякнул и начал:
"Это было в 1843 году, когда наш полк стоял под Ченстоховом. А надо вам заметить, сударыни мои, зима в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отмораживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трескучий морозище как стал в конце октября, так и продержался вплоть до самого апреля. В те поры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым, прокопченным чубуком, как теперь, а был, можете себе представить, молодец-молодцом, кровь с молоком, красавец-мужчина, одним словом. Франтил я, как павлин, сорил деньгами направо и налево и закручивал свои усы, как ни один прапорщик в свете. Бывало, стоило мне только моргнуть глазом, звякнуть шпорой и крутнуть ус - и самая гордая красавица обращалась в послушного ягненка. Жаден я был до женщин, как паук до мух, и если бы, сударыни мои, я стал сейчас перечислять вам полячек и жидовочек, которые в свое время висли на моей шее, то, смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел... Прибавьте ко всему этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично танцевал мазурку и был женат на прехорошенькой женщине, упокой господи ее душу. А какой я был сорванец, буйная головушка, вы и представить себе не можете. Если в уезде случалась какая-нибудь амурная кувырколлегия, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или бил по мордасам шляхтича, то так и знали, что это подпоручик Вывертов натворил.
В качестве адъютанта мне много приходилось рыскать по уезду. То я ездил овес или сено покупать, то продавал жидам и панам бракованных лошадей, а чаще всего, сударыни мои, под видом службы, скакал к панночкам на рандеву или к богатым помещикам поиграть в картишки... В ночь под Рождество, как теперь помню, я ехал из Ченстохова в деревню Шевелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нестерпимая... Мороз трещал и сердился, так что даже лошади крякали, а я и мой возница в какие-нибудь полчаса обратились в две сосульки... С морозом еще можно мириться, куда ни шло, но представьте себе, на полдороге вдруг поднялась метель. Белый саван закружился, завертелся, как чёрт перед заутреней, ветер застонал, точно у него жену отняли, дорога исчезла... Не больше как в десять минут меня, возницу и лошадей облепило снегом.
- Ваше благородие, мы с дороги сбились! - говорит возница.
- Ах, чёрт возьми! Что же ты, болван, глядел? Ну, поезжай прямо, авось, наткнемся на жилье!
Ну-с, ехали мы, ехали, кружились-кружились, и этак к полночи наши кони уперлись в ворота имения, как теперь помню, графа Боядловского, богатого поляка. Поляки и жиды для меня всё равно что хрен после обеда, но, надо правду сказать, шляхта гостеприимный народ и нет горячей женщин, как панночки...
Нас впустили... Сам граф Боядловский жил в ту пору в Париже, и нас принял его управляющий, поляк Казимир Хапцинский. Помню, не прошло и часа, как я уже сидел во флигеле управляющего, миндальничал с его женой, пил и играл в карты. Выиграв пять червонцев и напившись, я попросился спать. За неимением места во флигеле, мне отвели комнату в графских хоромах.
- Вы не боитесь привидений? - спросил управляющий, вводя меня в небольшую комнату, прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и потемок.
- А разве тут есть привидения? - спросил я, слушая, как глухое эхо повторяет мои слова и шаги.
- Не знаю, - засмеялся поляк, - но мне кажется, что это место самое подходящее для привидений и нечистых духов.
Я хорошо заложил за галстук и был пьян, как сорок тысяч сапожников, но, признаться, от таких слов меня обдало холодком. Чёрт побери, лучше сотня черкесов, чем одно привидение! Но делать было нечего, я разделся и лег... Моя свечка освещала стены еле-еле, а на стенах, можете себе представить, портреты предков, один страшнее другого, старинное оружие, охотничьи рога и прочая фантасмагория... Тишина стояла, как в могиле, только в соседней зале шуршали мыши и потрескивала рассохшаяся мебель. А за окном творилось что-то адское... Ветер отпевал кого-то, деревья гнулись с воем и плачем; какая-то чертовщинка, должно быть, ставня, жалобно скрипела и стучала по оконной раме. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова, а с головой и весь мир... Когда я закрывал глаза, мне казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла в чехарду с духами. Чтобы уменьшить свой страх, я первым долгом потушил свечу, так как пустующие комнаты при свете гораздо страшней, чем в потемках..."
Три девицы, слушавшие полковника, придвинулись поближе к рассказчику и уставились на него неподвижными глазами.
"Ну-с, - продолжал полковник, - как я ни старался уснуть, сон бежал от меня. То мне казалось, что воры лезут в окно, то слышался чей-то шёпот, то кто-то касался моего плеча - вообще чудилась чертовщина, какая знакома всякому, кто когда-нибудь находился в нервном напряжении. Но, можете себе представить, среди чертовщины и хаоса звуков я явственно различаю звук, похожий на шлепанье туфель. Прислушиваюсь - и что бы вы думали? - слышу я, кто-то подходит к моей двери, кашляет и отворяет ее...
- Кто здесь? - спрашиваю я, поднимаясь.
- Это я... не бойся! - отвечает женский голос.
Я направился к двери... Прошло несколько секунд, и я почувствовал, как две женские ручки, мягкие, как гагачий пух, легли мне на плечи.
- Я люблю тебя... Ты для меня дороже жизни, - сказал женский мелодический голосок.
Горячее дыхание коснулось моей щеки... Забыв про метель, про духов, про всё на свете, я обхватил рукой талию... и какую талию! Такие талии природа может изготовлять только по особому заказу, раз в десять лет... Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, как дыхание младенца! Я не выдержал, крепко сжал ее в объятиях... Уста наши слились в крепкий, продолжительный поцелуй и... клянусь вам всеми женщинами в мире, я до могилы не забуду этого поцелуя".
Полковник умолк, выпил полстакана воды и продолжал, понизив голос:
"Когда на другой день я выглянул в окно, то увидел, что метель стала еще больше... Ехать не было никакой возможности. Пришлось весь день сидеть у управляющего, играть в карты и пить. Вечером я опять был в пустом доме, и ровно в полночь я опять обнимал знакомую талию... Да, барышни, если б не любовь, околел бы я тогда от скуки. Спился бы, пожалуй".
Полковник вздохнул, поднялся и молча заходил по гостиной.
- Но... что же дальше? - спросила одна из барышень, замирая от ожидания.
- Ничего. На следующий день я был уже в дороге.
- Но... кто же была та женщина? - спросили нерешительно барышни.
- Понятно, кто!
- Ничего не понятно...
- Это была моя жена!
Все три барышни вскочили, точно ужаленные.
- То есть... как же так? - спросили они.
- Ах, господи, что же тут непонятного? - сказал полковник с досадой и пожал плечами. - Ведь я, кажется, достаточно ясно выражался! Ехал я в Шевелки с женой... Ночевала она в пустом доме, в соседней комнате... Очень ясно!
- Ммм... - проговорили барышни, разочарованно опуская руки. - Начали хорошо, а кончили бог знает как... Жена... Извините, но это даже не интересно и... нисколько не умно.
- Странно! Значит, вам хотелось бы, чтоб это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина! Ах, барышни, барышни! Если вы теперь так рассуждаете, то что же вы будете говорить, когда повыходите замуж?
Барышни сконфузились и замолчали. Они надулись, нахмурились и, совсем разочарованные, стали громко зевать... За ужином они ничего не ели, катали из хлеба шарики и молчали.
- Нет, это даже... бессовестно! - не выдержала одна из них. - Зачем же было рассказывать, если такой конец? Ничего хорошего в этом рассказе нет... Даже дико!
- Начали так заманчиво и... вдруг оборвали... - добавила другая. - Насмешка, и больше ничего.
- Ну, ну, ну... я пошутил... - сказал полковник. - Не сердитесь, барышни, я пошутил. То была не моя жена, а жена управляющего...
- Да?!
Барышни вдруг повеселели, глазки их засверкали... Они придвинулись к полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчез скоро и ужин, так как барышни стали кушать с большим аппетитом.
Související odkazy
Diskuse k úryvku
Anton Pavlovič Čechov - Byla to ona (Humoresky)
Štítky
gotická duše mojžíš a jeho lid jak se co dělá bílá masajka Saavedra tropy tajný dokument Jean Valjean věčnost jackson schiller loupeznici raketa Katyně jsme ve vesmíru sami Parta Islám pospíchej dolů henry wotton paleček crkev bagříkův příběh do vody profesní životopis sebehodnocení projev Lev a myš o henry reportáže kaktusy melancholie
Doporučujeme
Server info
Počítadlo: 734 482 089
Odezva: 0.17 s
Vykonaných SQL dotazů: 6
Návštěvnost: TOPlist.cz - školství › Český-jazyk.cz
© 2003-2025 Český-jazyk.cz - program a správa obsahu: Ing. Tomáš Souček, design: Aria-studio.cz Autoři stránek Český-jazyk.cz nezodpovídají za správnost obsahu zde uveřejněných materiálů! Práva na jednotlivé příspěvky vlastní provozovatel serveru Český-jazyk.cz! Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.
Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí